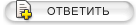Жанна
Жанна
Создана: 02 Марта 2014 Вск 18:46:44.
Раздел: "Неоднозначные рассказы и сказки"
Сообщений в теме: 10, просмотров: 39481
-
Андрей Геласимов
Жанна:
Больше всего ему понравилась эта штучка. То есть сначала не очень понравилась, потому что он был весь горячий и у него температура, а эта штучка холодная – он даже вздрагивал, когда ее к нему прижимали. Поворачивал голову и морщил лицо. Голова вся мокрая. Но не капризничал, потому что ему уже было трудно кричать. Мог только хрипеть негромко и закрывал глаза. А потом все равно к ней потянулся. Потому что она блестела.
– Хочешь, чтобы я тебя еще раз послушала? – говорит доктор и снимает с себя эту штучку.
А я совсем забыла, как она называется. Такая штучка, чтобы слушать людей. С зелеными трубочками. Кругляшок прилипает к спине, если долго его держать. Потом отлипает, но звук очень смешной. И еще немного щекотно. И кружится голова.
А Сережка схватил эту штучку и тащит ее себе в рот.
Доктор говорит – перестань. Это кака. Отдай ее мне.
Я говорю – он сейчас отпустит. Ему надо только чуть-чуть ее полизать. Пусть подержит немного, а то он плакал почти всю ночь.
Она смотрит на меня и говорит – ты что, одна с ним возилась?
Я говорю – одна. Больше никого нет.
Она смотрит на меня и молчит. Потом говорит – устала?
Я говорю – да нет. Я уже привыкла. Только руки устали совсем. К утру чуть не оторвались.
Она говорит – ты его все время на руках, что ли, таскаешь?
Я говорю – он не ходит еще.
Она смотрит на него и говорит – а сколько ему?
Я говорю – два года. Просто родовая травма была.
Она говорит – понятно. А тебе сколько лет?
Я говорю – мне восемнадцать.
Она помолчала, а потом стала собирать свой чемоданчик. Сережка ей эту штучку сразу отдал. Потому что у него уже сил не было сопротивляться.
Возле двери она повернулась и говорит – в общем, ничего страшного больше не будет. Но если что – снова звони нам. Я до восьми утра буду еще на дежурстве.
Я ей сказала – спасибо, и она закрыла за собой дверь.
Хороший доктор. Сережке она понравилась. А участковую нашу он не любит совсем. Плачет всегда, когда она к нам приходит. Зато участковая про нас с Сережкой все знает давным-давно. Поэтому не удивляется.
Но в этот раз я позвонила в «Скорую». Оставила его одного на десять минут и побежала в ночной магазин, где продают водку. Там охранник сидит с радиотелефоном.
Потому что в четыре часа я испугалась. Он плакал и плакал всю ночь, а в четыре перестал плакать. И я испугалась, что он умрет.
– А мать твоя из-за тебя умерла. Это ты во всем виновата, – сказала мне директриса, когда я пришла к ней, чтобы она меня в школу на работу взяла.
Потому что аттестат мне уже был не нужен. Мне нужно было Сережку кормить. Молочные смеси стоили очень дорого. Импортные. В таких красивых банках. А участковая сказала, что только ими надо кормить. В них витамины хорошие. Поэтому я в школу пришла на работу проситься, а не на учебу. Тем более что я все равно уже отстала. А деньги после мамы совсем закончились. Она всегда говорила – какой смысл копить? Уедем во Францию – заработаем там в тысячу раз больше. И слушала свою кассету с Эдит Пиаф.
– Ты ведь знала, что у нее было больное сердце, – сказала мне директриса. – А теперь стоишь здесь, бессовестная, на меня смотришь. Как ты вообще могла снова сюда прийти?
Я смотрю на нее и думаю: а как мама могла так долго сюда ходить? Тоже мне – нашла себя в жизни. Учитель французского языка. Они ведь тоже знали, что у нее больное сердце. И все равно болтали в учительской обо мне. Даже когда она там была. Потому что они считали, что она тоже виновата. Педагог – а за своей дочкой не уследила. Она плакала потом дома, но на больничный садиться отказывалась. Включала свою кассету и подпевала.
А потом умерла.
– Значит, не возьмете меня на работу? – сказала я директрисе.
– Извини, дорогая, – говорит она. – Но это слишком большая ответственность. У нас тут девочки. Мы должны думать о них.
А я, значит, такая проститутка. Которую нельзя детям показывать.
– Ты знаешь, это не детское кино, – говорила мама и отправляла меня спать.
А сама оставалась у телевизора.
Я лежала, отвернувшись к стене, и думала: какой интерес смотреть про то, как люди громко дышат? Слышно было даже в моей комнате.
И когда Толик упал со стройки, он тоже так громко дышал. Только у него глаза совсем не открывались. Просто лежал головой на кирпичах и дышал очень громко. А стройка, откуда он упал, была как раз наша школа. И теперь там сидит директриса.
Мы все потом в эту школу пошли. Кроме Толика. Потому что он вообще никуда больше не пошел. Даже в старую деревянную школу не сходил ни одного раза. Просто сидел у себя дома. А иногда его выпускали во двор, и я тогда ни с кем не играла. Кидалась камнями в мальчишек, чтобы они не лезли к нему. Потому что он всегда начинал кричать, если они к нему лезли. А его мама выходила из дома и плакала на крыльце. Им даже обещали квартиру дать в каменном доме, но не дали. Пришла какая-то тетенька из ЖЭУ и сказала – обойдется дебил. Поэтому они остались жить в нашем районе.
А мама всегда говорила, что здесь жить нельзя.
– Все жилы себе вымотаю, но мы отсюда уедем. Бежать надо из этих трущоб.
Я слушала ее и думала о том, что такое «трущобы». Мне казалось, что, наверное, это должны быть дома с трубами, но очень плохие. Неприятные и шершавые, как звук «Щ». И я удивлялась. Потому что в нашем районе не было труб. Печку никто не топил. Хотя дома на самом деле были плохие.
Но потом я начала ее понимать.
Когда пришли милиционеры и сломали нам дверь. Потому что они искали кого-то. Того, кто выстрелил в них из ружья. И тогда они стали ходить по всем домам и ломать двери. А когда они ушли, мама в первый раз сказала, что надо уезжать во Францию.
– Здесь больше нечего делать. Ну кто нам починит дверь?
Она стала писать какие-то письма, покупала дорогие конверты, но ответов не получала никогда.
– Мы уезжаем в Париж, – говорила она соседям. – Поэтому я не могу больше давать вам в долг. Тем более что вы все равно не возвращаете, а пьете на мои деньги водку.
Поэтому скоро мне стало трудно выходить на улицу. Особенно туда, где строили гаражи.
– А ты пошла вон отсюда, – говорил Вовка Шипоглаз и стукал меня велосипедным насосом. – Стюардесса по имени Жанна.
И я уходила. Потому что мне было больно и я боялась его. Он учился уже во втором классе. Правда, еще в деревянной школе. А на гаражах он был самый главный. Его отец строил эти гаражи. Поэтому, если кто-то хотел попрыгать с них в песочные кучи, надо было сначала спросить разрешения у Вовки.
Мне он прыгать не разрешал.
– Пошла вон, стюардесса. Во Франции будешь с гаражей прыгать вместе со своей мамой. Она у тебя придурочная. Вы обе придурочные. Пошла вон отсюда.
И стукал меня своим насосом по голове.
Он всегда с ним ходил. Хотя на велосипеде никогда не ездил. Никак не мог научиться. Все время падал. А потом бил мальчишек, которые над ним смеялись.
Но Толик никогда не смеялся над ним. Просто однажды подошел к нему и сказал – пусть она остается. Жалко, что ли, тебе?
И они начали драться. И потом дрались всегда. Пока Толик не упал со стройки. Потому что нам нравилось лазить на третий этаж. Мы там играли в школу. А когда он упал, я посмотрела наверх, и там было лицо Вовки Шипоглаза. А Толик громко дышал, и глаза у него совсем не открывались.
– А ну-ка, посмотри – как у него глазки открылись, – сказала мне медсестра и показала Сережку. – Мальчик у тебя. Видишь, какой большой?
Но я ничего не видела, потому что мне было очень больно. Я думала, что я скоро умру. Видела только, что он весь в крови, и не понимала, чья это кровь – моя или его?
– А ну-ка, держи его... Вот так... Давай-давай, тебе к нему теперь привыкать надо.
Но я никак не могла привыкнуть. А мама говорила, что она про маленьких детей тоже все позабыла. Она говорила – боже мой, неужели они бывают такие крохотные? Ты посмотри на его ручки. Смотри, смотри – он мне улыбнулся.
А я говорю – это просто гримаса. Нам врач объясняла на лекции. Непроизвольная мимика. Он не может еще никого узнавать.
– Сама ты непроизвольная мимика, – говорила она. – И врач твоя тоже ничего в детях не понимает. Он радуется тому, что скоро поедет во Францию. Ты не видела, куда я засунула кассету с Эдит Пиаф? Ее почему-то нет в магнитофоне.
А магнитофон у нас был очень старый. И весь дребезжал. И кассету я специально от нее спрятала. Потому что я больше не могла терпеть этот прикол. Нас даже соседские дети французами называли. А тут еще Сережка родился. Надо было с этим заканчивать.
Но она весь вечер слонялась из угла в угол, как не своя. Пыталась проверять тетрадки, а потом села у телевизора. Стала смотреть какие-то новости, но я видела, что она все равно сама не своя. Просто сидела у телевизора, и спина у нее была такая расстроенная. А Сережка орал уже, наверное, часа два.
Я говорю – вот она, твоя кассета. На полке лежит. Только ты все равно ничего не услышишь. В этом крике.
А она говорит – я на кухню пойду.
И Сережка перестал орать. Сразу же.
Я положила его в коляску и стала слушать, как у нас на кухне поет Эдит Пиаф. Очень хорошая музыка.
Но у меня руки затекли. И спина болела немного. И мне все равно казалось, что он не может еще никого узнавать. Слишком маленький.
А Толик меня узнал, когда ему исполнилось одиннадцать. Прямо в свой день рождения. Мама сказала – поднимись к ним, отнеси ему что-нибудь. А то они там опять все напьются и забудут про него.
Она боялась, что он снова начнет есть картофельные очистки и попадет в больницу. Потому что ему совсем недавно вырезали аппендицит.
Я не знала, что ему подарить, и поэтому взяла кошкин мячик и старую фотографию. На ней было несколько мальчишек, Толик и я. Нас сфотографировал дядя Петя – мамин друг, у которого была машина.
Он всех нас катал тогда вокруг дома, а после этого сфотографировал на крыльце. И фотография сразу же выползла из фотоаппарата. Я раньше никогда такого не видела. Но потом мама сказала, чтобы я о нем больше не спрашивала. Она сказала – перестань. Мне надоели твои вопросы.
И закрыла уши руками.
А на фотографии нам было шесть лет. Еще до того, как мы играли в школу на стройке.
– Подожди, – сказала я. – Не надо толкать ее в рот. Смотри – вот видишь, здесь ты. А рядом стоит Мишка. Видишь? Он высунул язык. А рядом с ним – Славка и Женька. Помнишь, как они спрятались на чердаке на целую ночь, а их папа потом гонялся за ними с ремнем по всей улице? А вот это я. И кто-то мне сзади приставил рожки. Это, наверное, Мишка, дурак. Он всегда так делал. А теперь он здесь не живет. Его родители переехали в центр города. Мы с мамой, может быть, тоже когда-нибудь отсюда уедем. Подожди, подожди, что ты делаешь? Не надо перегибать ее пополам. Она ведь сломается, и тогда ничего не будет видно на ней. Зачем ты ее тянешь? Что? Я не понимаю тебя. Ты только мычишь. Что? Ты хочешь что-то сказать?
А он тянул у меня из рук фотографию и тыкал в нее пальцем. Я посмотрела в то место, куда он тычет, и отдала ему фотографию. Потому что он показывал на меня.
Вот так он меня узнал. Прямо в свой день рождения.
– Рождение ребенка, – сказала нам врач на лекции, – это самое важное событие в жизни женщины. С первых минут своего появления на свет младенец должен быть окружен вниманием и любовью.
А я сижу там и смотрю на всех нас – как будто мы воздушные шарики проглотили. Сидим и слушаем про любовь. В таких больничных халатиках. Только мне уже было неинтересно. Я думала про то, что, может быть, я умру. И про то, как мне будет больно. А любовь меня уже тогда не волновала совсем.
– Ты знаешь, – сказали девчонки, когда я приехала в летний лагерь, – он такой классный. Он даже круче Венечки-физрука.
Я сказала – кто?
А они говорят – ты что, дура?
Я говорю – сами вы дуры. Откуда мне знать про ваших Венечек. Я ведь только приехала. Маме помогала в классе делать капитальный ремонт.
А они говорят – Венечка работает летчиком на самолете. У него есть машина, и ему двадцать пять лет. А когда у него отпуск – он физрук в этом лагере, потому что ему надо форму поддерживать. Но даже он все равно не такой классный, как Вовчик. Потому что Вовчик – просто нет слов.
Я сказала – да подождите вы, какой Вовчик?
А они говорят – ты что, дура? Он же из твоей школы. Он нам сказал, что знает тебя.
Я говорю – Вовка Шипоглаз, что ли?
А они говорят – мы его называем Вовчик.
Я им тогда говорю – Вовка Шипоглаз – последний урод. Самый уродливый из всех уродов.
А они засмеялись и говорят – ну, не знаем, не знаем.
Но я приехала в лагерь, чтобы летом денег заработать. Мне надо было в одиннадцатый класс в новых джинсах пойти. И еще кроссовки купить хотела. Поэтому я осталась.
А мама всю жизнь мне говорила – любовь зла. Но тут даже она не подозревала – насколько.
В первую же неделю девчонки мне все уши про него прожужжали. На кого он из них посмотрел, с кем танцевал, кому из парней надавал по шее.
Я, когда его встретила наконец, говорю – ты тут прямо суперзвезда. Джеки Чан местный. Мастер восточных единоборств.
А он смотрит мне прямо в глаза и говорит – приходи сегодня на дискотеку. Я тебя один прикольный танец научу танцевать.
Потом улыбается и говорит – стюардесса по имени Жанна.
И я почему-то пошла.
– Нормальный ребенок, – сказала мне участковая, – должен был пойти в десять месяцев. А твоему уже целых два года – и он у тебя все еще ползает, как... таракан.
Она не сразу сказала – как он ползает. Подумала немного, а потом сказала. И оттолкнула его от себя. Потому что он все время карабкался к ней. Обычно ревет, когда она приходит, а тут лезет к ее сапогам и цепляется за край халата.
– Ну вот, – говорит она, – обслюнявил меня совсем. Как я теперь пойду к другим детям?
Я говорю – извините.
А она говорит – мне-то что с твоих извинений. Это тебе надо было раньше думать – рожать его или не рожать. Сделала бы аборт – не сидела бы тут сейчас с ним на руках одна, без своей мамы. И школу бы нормально закончила. Еще неизвестно, как у него дальше развитие пойдет. С такой родовой травмой шутки не шутят. У вас ведь тут живет уже один дебил этажом выше.
Я говорю – он не дебил. Он просто упал со стройки, когда ему было шесть лет.
Она говорит – упал, не упал, я же тебе объясняю – с травмами, дорогая, не шутят. Хочешь всю жизнь ему слюни вытирать? Тебе самой еще в куклы играть надо. Нарожают – а потом с ними возись. Где у тебя были твои мозги? И нечего тут реветь.
Я говорю – я не реву. У меня просто в глаз соринка попала.
А она говорит – тебе в другое место соринка попала. Через неделю еще зайду. В это же время будьте, пожалуйста, дома.
Я говорю – мы всегда дома.
Она встала в своих сапогах и ушла.
А как только она ушла, я взяла Сережку, поставила его на ноги и говорю – ну, давай, маленький, ну, пожалуйста, ну, пойди.
А сама уже ничего не вижу, потому что плачу, и мне очень хочется, чтобы он пошел.
А он не идет, и каждый раз опускается мягко на свою попу. И я его снова ставлю, а он улыбается и все время на пол садится.
И тогда я его ставлю в последний раз, толкаю в спину, и кричу – все из-за тебя, чурбан несчастный. Не можешь хоть один раз нормально пойти.
И он падает лицом вперед и стукается головой. Изо рта у него бежит кровь. И он плачет потому, что он меня испугался. А я хватаю его и прижимаю к себе. И тоже плачу. И никак не могу остановиться. Вытираю кровь у него с лица и никак не могу остановиться.
– Не останавливайся! – кричу я Толику. – Не останавливайся! Иди дальше! Не стой на месте!
Но он меня не понимает. Он слышит, что я кричу, но думает, что мы все еще с ним играем. А лед под ним уже трещит. Он кричит мне в ответ и машет руками, а я боюсь – как бы он не стал прыгать. Потому что он всегда прыгает на месте, когда ему весело. А я ему кричу – только не останавливайся. Я тебя умоляю.
Потому что лед совсем тонкий, и он идет по этому льду за кошкиным мячиком, который я подарила ему на день рождения всего два дня назад. А он теперь с ним не расстается. Даже ест, не выпуская его из рук. Потому что это мой мячик. Потому что это я его принесла.
А когда мы вернулись, мама посмотрела на меня и сказала – ну что ты с ним возишься? За тобой твои друзья приходили. Играла бы лучше с нормальными детьми.
А я говорю – Толик нормальный. Он меня на фотографии узнал.
Она говорит – надо все-таки похлопотать, чтобы его определили в спецшколу. А то здесь за ним, кроме тебя, действительно никто не смотрит. Дождутся эти пьяницы, что он у них куда-нибудь опять упадет и сломает себе шею. Хотя, может, они этого как раз и ждут. И котлован возле школы никто засыпать не собирается. Ты туда не ходи с ним. А то выбежит вдруг на лед и провалится. Знаешь, какая там глубина?
Я говорю – знаю. Мы туда не ходим играть. Мы с ним почти всегда во дворе играем.
Она говорит – а когда я тебя во Францию увезу, кто за ним присматривать будет? Надо же, как бывает в жизни. Не нужен он никому.
А потом я тоже стала никому не нужна. Мамины деньги к зиме закончились, и надо было искать работу. Но меня не брали совсем никуда. Даже директриса в школе отказалась меня принять. Сказала, что я буду плохим примером для девочек.
А я и не хотела быть никаким примером. Мне просто надо было Сережку кормить. И сапоги к этому времени совсем развалились. Поэтому я бегала искать работу в кроссовках, которые купила тем самым летом. Они были уже потрепанные – три года почти. И ноги в них сильно мерзли. Особенно если автобуса долго нет. Стоишь на остановке, постукиваешь ими, как деревяшками, а сама сходишь с ума от страха – плачет Сережка один в закрытой квартире или еще нет?
А на улице стоял дикий холод. Только что справили двухтысячный год. Но я не справляла. Потому что телевизор уже продала. И швейную машинку. И пылесос. Но деньги все равно заканчивались очень быстро, поэтому я стала продавать мамины вещи. Хотя сначала не хотела их продавать. А когда дошла до магнитофона, почему-то остановилась. Сидела в пустой квартире, смотрела, как Сережка ползает на полу, и слушала мамину кассету с Эдит Пиаф. Сережке нравились ее песни. А я смотрела на него и думала – где мне еще хоть немного денег найти.
Потому что, в общем-то, уже было негде.
И вот тут пришло это письмо. Где-то в середине марта. Ноги уже перестали в кроссовках мерзнуть. Я сначала не поняла – откуда оно, а когда открыла, то очень удивилась. Потому что я никогда не верила в то, что это письмо может прийти. Хотя мама его ждала, наверное, каждый день. А я не верила. Я думала, что она просто немного сошла с ума. Я думала, что чудес не бывает.
В письме говорилось, что в ответ на многочисленные просьбы мадам моей мамы посольство Франции в России сделало соответствующие запросы в определенные инстанции и теперь извиняется за то, что вся эта процедура заняла так много времени. По не зависящим от них причинам юридического и политического характера французское посольство было не в силах выяснить обстоятельства этого сложного дела вплоть до настоящего момента. Однако оно спешит сообщить, что в результате долгих поисков им действительно удалось обнаружить мадам Боше, которая не отрицает своего родства с моей мамой, поскольку у них был общий дедушка, оказавшийся во время Второй мировой войны в числе интернированных лиц и по ее окончании принявший решение остаться на постоянное жительство во Франции, женившись на французской гражданке. Трудности, возникшие у посольства Франции в связи с этим делом, были обусловлены тем, что дети интернированного дедушки и вышепоименованной гражданки Франции разъехались в разные страны и приняли иное гражданство. В частности, родители мадам Боше являются подданными Канады. Однако, поскольку сама мадам Боше вернулась во Францию и вышла замуж за французского гражданина, французское посольство в России не видит больше никаких препятствий к тому, чтобы мадам моя мама обратилась к французскому правительству с просьбой о переезде на постоянное местожительство во Францию. Все необходимые документы посольство Франции в России готово любезно предоставить по следующему адресу.
А дальше шел номер факса. И какие-то слова. Но я не умею читать по-французски. А мамины словари все уже были проданы. Потому что мама к тому времени уже почти полгода как умерла.
И что такое «интернированный» – я тоже не знала.
Зато конверт был очень красивый, поэтому я отдала его Сережке. Он любит разными бумажками шуршать.
Схватил его и заурчал от удовольствия. А я смотрю на него и думаю – ну почему же ты не начинаешь ходить?
Потому что я не собиралась ехать ни в какую Францию. Кому я там нужна? И про Толика я уже знала, что не смогу его бросить. У него родители к этому времени совсем с ума сошли. Напивались почти каждый день и часто били его. А он не понимал, за что его бьют, и очень громко кричал. Соседи говорили, что даже в других домах было слышно. Тогда я поднималась к ним и забирала его к себе. И он сразу же успокаивался. Ползал вместе с Сережкой по комнатам и гудел, как паровоз. А Сережка переворачивался на спину, размахивал ручками и смеялся. Маленький, перевернутый на спину, смеющийся мальчик. Так что я не собиралась никуда уезжать.
Вот только за маму было обидно.
Поэтому на следующее утро я снова пошла искать работу. Одна моя бывшая одноклассница сказала, что ее хозяин хочет нанять еще одного продавца. Чтобы сидеть ночью. И мне это как раз подходило. Потому что Сережке уже исполнилось два года и он всю ночь спал. Даже не писал до самого утра.
И платить, она сказала, будут прилично.
Но в итоге, как всегда, ничего не получилось.
– Ты знаешь, – сказала она, – он не хочет нанимать продавца с ребенком. Говорит – с тобой мороки не оберешься.
– Не будет со мной никакой мороки, – сказала я.
Но она только пожала плечами.
А я опять говорю – не будет со мной никакой мороки.
И вот так мы стоим и смотрим друг на друга, и она ждет – когда я уйду, потому что ей уже жалко, что она меня пригласила. А вокруг теснота и «Сникерсы», «Балтика № 9». Но мне все равно хочется там остаться. Потому что я знаю, что денег мне больше нигде не найти.
И тут я вижу в углу совсем маленького мальчика. Года четыре ему или чуть больше. И он подметает огромным веником какую-то грязь. Вернее, он не совсем подметает, потому что веник размером почти такой же, как он, и ему очень трудно передвигать его с места на место.
Я говорю – а он что здесь делает? Это твой племянник, что ли? Не с кем дома оставить?
Она смотрит на него, смеется и говорит – да ну, какой там племянник. Просто заколебали уже. Ходят и ходят. То одно клянчат, то другое. Заколебали. Теперь пришел, говорит – тетя, дай йогурт. А я ему веник дала. Пусть заработает. У него там еще сестра есть.
Я обернулась и увидела, что у порога стоит девочка. Еще меньше, чем он. И тоже чумазая вся. Стоит и смотрит на нас. И глаза у нее блестят.
А когда я вошла, то я их совсем не заметила. Потому что мне очень хотелось про работу узнать.
Я наклонилась к этому мальчику и говорю – ты что, йогурт хочешь?
Он остановился и очень тихо мне сказал – да.
Я говорю – ты его пробовал?
И у него щеки такие чумазые.
А он говорит – нет.
И смотрит на меня. И ростом почти с этот веник.
Я тогда выпрямилась и говорю – ты им дай, пожалуйста, йогурт. Вот деньги.
А она смотрит на меня и качает своей головой. И еще улыбается.
Я говорю – дай им йогурт. Я тебе заплатила.
Потом вышла на улицу, стою возле остановки и плачу. Потому что мне обидно стало за этих детей.
Как будто рабы. Только совсем маленькие.
А на следующий день пришел Вовка Шипоглаз. Я даже не знала, что он опять в нашем городе. Мне сказали, что он с отцом уехал в Москву. У них там какой-то бизнес.
Я дверь открыла, а он стоит передо мной весь такой в дубленке и в норковой шапке. Хотя на улице уже все бежит. А я в маминых спортивках. И футболка у меня на плече порвалась.
И еще у меня из-за спины в коридор выползает Сережка. Боком, как краб. Одну ножку закидывает вперед, а потом другую уже к ней подтягивает. Но очень быстро. Потому что он ведь уже большой и ему хочется быстро передвигаться.
Я взяла его на руки, чтобы он у открытой двери на полу не простыл, и вот так мы стоим, друг на друга смотрим.
И он наконец говорит – я слышал, у тебя мать умерла.
Потом еще несколько раз заходил. Приносил еду, конфеты и памперсы. Игрушки тоже приносил, но они все были какие-то странные. Он вообще был немного странный. Почти не разговаривал. Объяснил только, что прилетел на неделю продать отцовскую дачу, квартиру и гараж. И больше ему в этом городе делать нечего.
Это он сам так сказал.
Сказал и смотрит на меня. А потом на Сережку.
И говорит – а почему он до сих пор не ходит?
Я говорю – родовая травма.
Он говорит – да? А что это такое?
Я говорю – мне было слишком мало лет, когда он родился. Таз очень узкий. Когда его тянули, пришлось наложить щипцы. От этого голова немного помялась. И шейные позвонки сдвинулись с места чуть-чуть.
Он смотрит на него и говорит – а может быть, операция?
Я говорю – пока неизвестно. Врачи говорят, что надо ждать. Время покажет.
После этого он исчез. Перестал приходить, и я подумала, что он продал свою дачу.
А потом я наконец работу нашла. То есть я уже даже и не искала. Просто сидела дома, и мы доедали то, что Вовка принес нам за несколько раз. Конфеты доедал Сережка.
Тут, как всегда, приходит участковая и начинает на нас кричать.
Она кричит, что я дура, что меня надо было в детстве пороть, что Сережке нужно совсем другое питание и что я никакая не мать. А мы сидим на полу и смотрим на нее, как она кричит. И Сережка уже не боится. Потому что он к ней привык и больше от ее голоса не вздрагивает. Он только смотрит на нее, задрав голову, и рот у него открыт. Глаза такие большие, но видно, что он уже не боится. Только взгляд от нее не отводит. А я смотрю на него, и мне его жалко, потому что он голову все время к левому плечу наклоняет. А у меня от этого дыхание перехватывает.
И тут она спрашивает – на что ей можно присесть.
А я говорю, что не на что.
Потому что я стулья тоже все продала. Сначала кресло, потом стулья, а после этого – табуретки. Все равно нам с Сережкой они были не нужны. Мы с ним в основном на полу тусовались.
А она говорит – тогда я на кровать сяду.
Я говорю – садитесь, пожалуйста.
Она села, а Сережка пополз к ее сапогам. Я хотела его забрать, но она сказала – не надо. И я удивилась, потому что раньше она не любила, когда он к ней лез.
– Мой муж нашел для тебя работу, – сказала она. – Будешь у него в банке прибираться и мыть полы. Там очень хорошо платят. Во всяком случае, больше, чем твоя мать зарабатывала в своей школе. Ты только должна мне пообещать, что не подведешь нас, потому что мой муж за тебя поручился. У них очень строгая политика по отношению к подбору обслуживающего персонала. Они должны тебе доверять. Ты можешь мне дать обещание?
– Какое? – сказала я.
Потому что я правда не совсем ее понимала. Хотя мне очень хотелось ее понять. Очень-очень.
– Нет, ты все-таки дура. Я говорю – ты можешь пообещать мне, что не подведешь моего мужа? Он за тебя просил.
И тогда я сказала – конечно. Конечно, я не подведу вашего мужа. Я буду делать все, что мне скажут, и буду очень аккуратно мыть все полы. И выбрасывать все бумажки.
И она сказала – ну вот, молодец. Наконец поняла, что от тебя требуется. Послезавтра придешь по этому адресу в пять часов. Работать будешь по вечерам. Тебе есть с кем оставить своего мальчика?
И дала мне бумажку.
Я говорю – да, да. Все в порядке. За Сережу можете не беспокоиться. Он уже очень большой.
Она говорит – вот и ладно.
Потом встала и пошла к двери. У самой двери обернулась.
– Да, кстати, как у него дела?
– У него все хорошо, – сказала я. – Большое спасибо.
А когда она ушла, я заплакала.
На следующий день ближе к вечеру снова пришел Шипоглаз. Я думала, что он уже улетел, поэтому немного удивилась. И еще растерялась. Потому что наверху с обеда началась пьянка, и мне снова пришлось забрать Толика к себе. Иначе бы он кричал на всю улицу.
Сережка сразу пополз к Вовкиной сумке. Он уже привык, что там должны быть конфеты. Но Вовка на этот раз не дал ему ничего. Он только смотрел, как Сережка с Толиком ползают на полу, и молчал.
А потом спросил у меня – он разговаривать хоть умеет?
И я поняла, что он спрашивает не про Сережку. Потому что про Сережку он уже давно все спросил.
– Не умеет, – сказала я. – Может только кричать, когда ему страшно. Но меня узнает.
– А других? – спросил Вовка.
– Других, по-моему, нет.
Он посмотрел на Толика еще немного, а потом сел на кровать. Туда, где вчера сидела участковая.
– Ты знаешь, – сказал он, – нам надо поговорить.
– О чем? – сказала я.
Потому что я видела, как он нервничает. И сама я тоже нервничала немного.
Он говорит – я завтра улетаю в Москву.
А я говорю – в Москву – это круто.
И смотрю – как бы Сережка с Толиком не перевернули его сумку. Они уже очень близко к ней подобрались.
Он говорит – нам надо что-то решать.
Я поворачиваюсь к нему, и в этот момент все, что было у него в сумке, вываливается на пол. Я бросаюсь в их сторону, но он хватает меня за руку и говорит – подожди, это неважно. Там ничего такого серьезного нет. Мне надо с тобой поговорить.
И тогда я сажусь рядом с ним на кровать. А Сережка с Толиком смеются и разбрасывают по всему полу его вещи.
Он говорит – ему нельзя здесь оставаться.
И я понимаю, что он не про Толика говорит. Потому что Толика он всего пять минут назад увидел. И, может быть, даже совсем не помнил о нем ничего.
Но я помнила.
Он говорит – короче, я все придумал. Мы с тобой поступим вот так.
А я смотрю на них – как они там возятся рядом с дверью, и думаю – только бы они не порезались чем-нибудь. Вдруг у него в сумке есть что-нибудь острое.
А он говорит – ну как? Ты согласна?
Я говорю – на что?
Он смотрит на меня и говорит – я же тебе объяснил. Ты что, разве не слушала?
Я говорю – я слушала, но просто я устала чуть-чуть. И у меня голова сегодня болит немного.
Он говорит – главное, чтобы ты подписала эту бумагу, в которой отказываешься от всяких претензий на то, что я Сережкин отец. Я узнавал у здешнего адвоката. Такую бумагу составить можно. И тогда я смогу забрать вас с собой. Снимем для вас квартиру. Однокомнатную – но ничего. Главное, что я буду помогать Сережке. Только моему отцу пока ничего говорить не надо.
Я поворачиваюсь к нему и говорю – так ты хочешь, чтобы мы поехали с тобой в Москву?
А он говорит – ну, да. Только надо сначала подписать эту бумагу. Чтобы потом в суде никаких косяков не возникло.
Я говорю – в каком суде?
Он говорит – ну вдруг ты захочешь со мной судиться. Насчет того, что я Сережкин отец.
Я смотрю на него и говорю – так ты и есть его отец.
А он говорит – я знаю. Но только это неважно.
Я говорю – как это неважно? Он же твой сын.
Он говорит – я знаю.
Потом встал, походил по комнате и говорит – короче, решай. Или ты едешь со мной в Москву, или не едешь.
А я смотрю на Сережку – как он ползает вокруг Толика, и потом на Вовку – как он посреди нашей комнаты стоит – в своей дубленке, и даже норковую шапку не снял, и потом говорю – мы уезжаем во Францию. Теперь уже совсем скоро. И Толика, наверное, с собой возьмем.
Вовка смотрел на меня, смотрел и наконец засмеялся.
Говорит – ты такая же дура, как твоя мать. Тоже с ума сошла. Проснись, ее больше нету.
Тогда я пошла на кухню и взяла там на подоконнике письмо. Отдала ему и говорю – правда, оно уже без конверта. Но все печати стоят. Сам посмотри, если не веришь.
Он прочитал письмо, и лицо у него стало другое. Как в детстве, когда он падал с велосипеда и над ним смеялись пацаны.
Мне даже стало жалко его.
Он говорит – и когда собираешься ехать?
Я говорю – не знаю еще. Надо последние вещи продать. Ну и еще кое-какие дела тут уладить.
Он говорит – понятно.
И наконец снимает свою шапку. А волосы у него под ней слиплись уже. И на висках побежал пот.
Я говорю – спасибо тебе за предложение. Может, когда-нибудь увидимся еще.
Тогда он стал собирать свои вещи. А Толик с Сережкой ползают вокруг него и сильно ему мешают. Потому что они подумали, что он с ними начал играть.
Наконец он собрал все, выпрямился и достал из дубленки маленький телефон.
Говорит – возьми. Если нажмешь вот на эту кнопку, то сразу соединит с Москвой. Я отдельно живу от отца, поэтому можешь звонить мне в любое время. За звонки плачу я.
Я говорю – а зачем?
Он смотрит на меня и говорит – ну, не знаю. Мало ли?
Потом посмотрел на Сережку, на Толика. Перешагнул через них и вышел. А я закрыла за ним дверь.
Постояла немного и чуть-чуть успокоилась. Но тут они стали капризничать. Потому что Вовка у них все игрушки забрал, а им нравилось копаться у него в сумке.
Я присела к ним и отдала Толику телефон. А Сережке дала письмо. Чтобы они замолчали.
И они притихли. Потому что детям нравится все ломать. А Сережке нравится рвать бумагу.
Я смотрела, как Толик стукает телефоном об пол, и ни о чем не думала. Мне просто нравилось на него смотреть. И еще мне нравилось смотреть на Сережку. Как он толкает себе бумагу в рот, выплевывает ее и смеется.
А потом он пополз к кровати, уцепился за спинку и встал. Постоял немного, разжал ручки, покачнулся и вдруг сделал один шаг ко мне. Я замерла, чтобы не напугать его, и протянула к нему руки. И тогда он шагнул еще. А я не могла даже с места сдвинуться и только смотрела на него. Он опять покачнулся и сделал еще один шаг.
И тогда я сказала – иди ко мне. Иди к маме... -
-
-